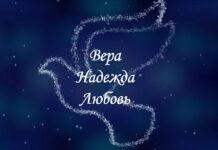Знала она, что и как пишут российские немецкие литераторы Виктор Клейн, Александр Реймген, Нора Пфеффер, Нелли Ваккер, Доминик Гольман, Эльза Ульмер, Вольдемар Шпаар. Некоторых она помнила по Волге, кое-кто бывал у нас.
Продолжение. Начало в предыдущем номере.
Как-то мне попалось на глаза стихотворение о ее родном селе Мангейме. Я начал читал его маме: Hier war meine Heimat, hier war ich daheim. Hier liegt ein deutsches Dörfchen, hieß hundert Jahre Mannheim…
Мама встрепенулась, прислушалась:
— Ты написал?
— Нет. Иоханнес Ремпе. Твой односельчанин.
— Ремпе? Не помню такого.
— Может, еще раньше тебя из села уехал? Он пишет, что сочинил эти стихи 18 июля 1981 года в 10 часов утра, стоя у развалин своего дома.
— Интересно. Может, отец знает? Читай дальше.
— Слушай: Heute knie ich hier nieder am heiligen Ort. Und küsse Vaterhauserde und zien wieder fort.
— Бедный, бедный…Все мы бедные. Всем досталось. Йа, йа…und zieh wieder fort…
Adje, lieber Hügel, wo meine Wiege einst stand.
Leb wohl, Wolgasteppe, Von der Sonn ausgebrannt!
— Ай, как шалько, шалько…Leb wohl, Wolgasteppe. Хорошо написал…
— Просто трогательно…
— Как есть. Все правда. Он писатель?
— Не знаю. Первый раз имя мне попадается. Ремпе…
— Странно, что я такого не знаю. Надо у отца спросить. Может, из соседнего Мариенбурга?
Пыльные кипы пожелтевших газет «Фройндшафт», «Дойче Альгемайне», «Нойес Лебен» за многие годы, номера альманаха «Хайматлихе Вайтен», сборники немецких писателей сложены в шкафу в бывшем курятнике и ныне не востребованы. Ни сестры, ни племянники, ни зятья, ни снохи, ни внуки по-немецки не читают. Нынешним летом вместе с отцом я несколько дней перебирал, переворачивал эти плотные залежи немецкой периодики и всюду обнаруживал следы маминых рук – закладки из пряжи между страницами, корявые карандашные пометки с моим именем.
Не терпела мама жалостливые разговоры о трудности жизни, о неладах и неурядицах, презирала тоску, уныние, бездеятельность. Как-то собрались ее уже повзрослевшие внуки во дворе за круглым семейным столом и принялись дружно сетовать на жизнь, на несправедливость, ныли, нудили, договорились до того, что жить дальше так невыносимо, что надо уезжать – в Германию, Грецию или – на худой конец – в Россию. Мама слушала молча, всю ночь, видно, думала обо всем этом, а утром разразилась таким монологом:
— Сволочи…Работают с девяти до шести и то им много, и то устают. И зарплаты, подумаешь, им все мало. В другую страну еще хотят уезжать! А как мы жили?! Вставали в четыре утра, в пять и до двенадцати ночи работали. И никакой зарплаты не было. Одни палочки-трудодни ставили. И ученых было мало. Никаких таких речей не говорили. Язык за зубами держали. И что? Люди разве хуже были? В сто раз лучше нынешних! А теперь всем мясо давай, зарплату давай, квартиру отдельную давай, а работать не хотят, сволочи, у всех только шахер-махер на уме, друг друга не любят, государство не уважают. И что дальше будет? Кто виноват? Была бы я начальником или бригадиром, я бы им показала, чертям, приделала бы им длинные ноги!
Никто из внуков и возразить не посмел.
Очень тяжело выходила мама из стрессового состояния после того, как на девятом десятке невзначай, можно сказать на ровном месте, сломала ногу. Временами она чувствовала себя ненужной, просто обузой в семье и подумывала о смерти. Не с кем было делиться своими печальными думами. У всех дела, заботы. Душа матери маялась, не находила себе места. И Бог знает, о чем она думала в такие минуты… В моем блокноте сохранилась такая запись: Вечер. В углу двора, в закутке, мы с мамой вдвоем. Я читаю Щедрина. Мама очень неловко, с трудом примащивается на кровати.
— Все у меня болит. Вот так и будет все болеть, болеть, и я умру.
Видно, маме хочется поговорить со мной о том, что ее в последнее время неотступно тяготит.
Вечер. Тишь. Духота. На темном азийском небе зажглись несколько звезд. Вдалеке слышен с одной стороны голос муэдзина, призывающего правоверных совершать намаз, а с другой – льется заунывная узбекская песня.
Видно, маме хочется поговорить со мной о том, что ее в последнее время неотступно тяготит.
— Да, — говорю. – Умереть не так-то просто. Придется и похворать, и помучиться.
— Это и плохо.
— А как бы ты хотела?
— Не болеть, а умереть – сразу.
Я молчу. Нет желания поддерживать жалостливый разговор.
— Чем так мучиться, лучше умереть, – опять начинает мама.
— А как?
— Не есть, не пить…
— Так проще, конечно. Но надо ведь не о себе думать. А о других.
Мама молчит, соображает.
— А другим, кажется, я и не нужна. Только обрадуются.
— Ошибаешься. Без тебя всем сразу будет хуже. Поверь мне.
Молчание.
— Надоело так лежать… Столько работы кругом.
— Ну, я думаю, за свою жизнь ты переделала столько, что можешь себе позволить и немного отдохнуть. А встанешь на ноги – все наверстаешь.
Кажется, малость утешил. Мама молчит, думает.
— Нет, моя песенка спета. Все.
— Это знает лишь Бог.
— И Бог не знает. Я сама знаю.
Это было июльским вечером 1992 года. А более года мамы уже нет среди нас. Кажется, ничего не изменилось. Тот же двор. Та же обстановка. Мы сидим душным летним вечером за тем же столом, вспоминаем маму. И время от времени из сада прилетает и облетывает нас, кружась, трепыхаясь, белая бабочка с прозрачными крылышками. И я завороженно слежу за ней, и чудится мне, будто незримый дух мамы витает над нами.
— Ну, что, Альма? Еще не получила ауфнамебешайд?
— Какой там? Почти без движения…
С некоторых пор Альма на распутии. Многое в нынешней жизни ей не по душе. Все чудится зыбким, шатким. Нет веры, устойчивости. Жизнь вроде разлаживается все заметнее, как рассыхающаяся отцовская скрипка под кроватью. До пенсии еще ой как далеко, а усталость все назойливей дает о себе знать. Нет опоры, поддержки. Работать сложно. Быт труден. Забот много. Она воспитывает Артура. Средств еле-еле.
Перспектив не видно. И жизнь племянников и племянниц не вселяет надежды. Не живут – выживают. …И пошла Альма с племянницей Таней в лютеранскую кирху на улице Жуковского. Духовные песни поют. Молитвы заучивают. К вере приобщаются. Стараются Бога впустить в сердце. Но… не находит душа успокоения. Разные сомнения одолевают.
Вот тут-то и проведал их давний знакомый и добрейшая душа Андрей Христ, давным-давно обосновавшийся на родине предков. Выслушал Альму и Таню, проникся сочувствием и состраданием, предложил переселиться в Германию, обещал всячески содействовать. Дрогнули сердца Альмы и Тани, быстро собрали документы, заполнили антраги. Все! Решено! В Германию, в Германию… А что? Все едут. Кому не лень. Вся махаллинская шантрапа, никакого отношения к немцам не имеющая, уже там. А мы что, рыжие? Не пропадем! Хуже не будет!…
Признаться, такой поворот в умонастрое моих родных неожидан для меня. Но Альму понять могу. Не о себе думает – об Артуре. Она сейчас уже не спит, представляя, как Артур, ее единственная опора, надежда, смысл жизни, свет в окошке, будет служить в узбекской армии. Нет, нет, такого она не переживет. Бежать, бежать… в Германию или на край света – хоть куда… Ну, а Таня, уроженка Ташкента, полуукраинка, полунемка, не знающая языка, довольно отстраненная от немецкой ментальности, нехваткая, томная, флегматичная, вся в себя погруженная… она-то что потеряла в неведомой Германии? Но именно она-то и больше всего, с хохлацкой настырностью ратует за выезд. У Тани одно на уме: даешь красивую жизнь!…
Меня эта затея никак не греет. И я отношусь к ней более чем сдержанно. И Альма, и Таня это знают. И между нами на этой основе возник едва ли не холодок отчуждения. И я стараюсь вообще об этом не говорить, чтобы не раздражать их и не распалять себя. Любые аргументы – холостой выстрел. Что ж… у каждого своя судьба. Не могу же я навязывать свою волю и быть кому-то помехой. Не могу я утверждать, что только я знаю всю правду и что она целиком на моей стороне. Нет, нет…
Вообще в этом вопросе я консерватор. Не могу себе представить, как бы я мог жить в стране, для которой я ничего не сделал и – по причине возраста – уже ничего не сделано. Жить нахлебником? Жить на подачках? В кредит? Да я тотчас подавлюсь самой изысканной, самой деликатесной немецкой колбасой. Да немецкий хлеб мне поперек горла встанет. Да самыми натуральными, экологически чистыми соками поперхнусь. Не могу также себе вообразить, как бы я покинул страну, которой я отдал все и которая – как мне чудится – нуждается во мне и сейчас. Другое дело, если меня вытолкнут или я себя почувствую ни к чему уже не пригодным и никому уже не нужным. Тогда другой вопрос. Но это уже трагедия. Или – еще точнее – смерть.
Теперь я уже многое в состоянии понять. Но не все, далеко не все… Умом разумею: обиды, унижения, оскорбления, незаслуженно, огульно, подло, ни за что ни про что, накопилось, наслоилось столько, что с лихвой хватит на семь поколений наперед, отложилось прочно в генетической памяти, не вытравишь, не одолеешь, убитую душу не воскресишь. Перетолкли, перемололи народ, истоптали, извели так, что белый свет не мил. У многих моих соплеменников, как только появилась возможность, одно было на уме: бежать, бежать, подальше, в неведомое, к черту на кулички, куда глаза глядят… от дерьмовой политики, гнусной демагогии, бесконечной лжи, фальши, фарисейства, от власти, большевизма, социализма, тупизма, идиотизма.
… В годы войны и в послевоенное время в колхозах, помню, пахали замордованные бабы и хлипкая поросль на быках и коровах. Бог ты мой, до чего же измытаренными были колхозные быки! Тощие, мосластые, облепленные слепнями, грязные, с запавшими, в проплешинах и подтеках, боками, облезлые, с истертыми от ярма до крови шеями, со слезящимися, гноящимися, полными боли и муки глазами, они понуро и тупо плелись по пашне, волоча за собой плуг, не реагируя на понукания и подхлестывания таких же изможденных погонщиков.
Однажды я был свидетелем такой вот картины. Перед закатом солнца, вконец обессилев, бык вдруг остановился, тяжело мотнул головой, издал утробный не то стон, не то хрип и, подламываясь, рухнул в борозду, уставясь остекленевшими глазами в беспросветье. Ни изощренный русско-казахский мат бригадира, ни ор испуганных малолетних погонщиков, ни хлесткие удары хлыста не могли заставить его подняться. Наконец, сжалились над беднягой, высвободили из ярма, дали отдышаться. Бык лежал, безучастный ко всему, лишь судорожная дрожь пробежала вдоль боков да жила на шее, толстая, как аркан, вздувшись, трепетно билась. Казалось, бык обречен. Так и останется лежать в борозде. Но вскоре он вдруг резко дернул головой, глаза налились кровью, он ударил задней ногой, молниеносно вскинулся, встал, взбрыкнул, упруго встопорщив хвост и ошалело, вскачь понесся в степь, заваливаясь на бок, отталкиваясь от земли всеми ногами сразу. Он мчался так, будто испугался погони. Собрав остальные силы, уносил ноги подальше, подальше от людей, от борозды, от плуга, от ярма, от непосильной каторги, от голода, от рабской доли, от ада, который длился день и ночь, неделями, месяцами, годами. Вскоре он исчез, растворился в предзакатной степи…
Вот и мой народ, подобно этому замученному, заморенному быку, собрав всю силу в кулак, всю волю, едва освободившись из кабалы, из ярма комендатуры и бесконечных ограничений, понесся из лагерей, из ссылки, из трудовой армии, из поселений подальше, подальше вплоть до неведомого закордонья. А потом, годы спустя, дерзнул мечтать о восстановлении былой справедливости, о возвращении на исконнюю землю, где уже истлели кости предков, где уже развалился, с землей смешался отчий дом, но где еще теплилась надежда о возврате к национальным истокам, которые еще жили в памяти, в сознании уцелевших после всех неслыханных мытарств отцов и дедов. И казалось порой, что надежда эта вот-вот сбудется, что уже до нее почти рукой подать, ан нет, все тщетно, все напрасно, все утонуло в лживых словесах и довольно скоро стало ясно, что к прошлому возврата нет, нет и не будет, что с возу однажды упало, то пропало. И тогда еще недавно репрессированный, запрещенный народ превратился в Фольк ауф дем Вег – в народ в пути, или, точнее, в народ на распутии. А можно сказать и так: спецпереселенцы обернулись поздними возвращенцами. Выяснилось, что какими бы глубокими ни были корни, пущенные в чужой земле, в годы смуты они не спасут – усохнут, зачахнут. Ибо везде на земле в смуту, в мор и разлад народы помимо воли начинают молиться на «своих» и «чужих», на коренных и пришлых, и тогда «чужие» и «пришлые», как правило, окажутся крайними во всем, везде и всюду. Иначе говоря, он не ущемленный и не ущемляемый, не пораженный и не поражаемый в гражданских правах, он всего-навсего крайний.
Что-то разладилось в извечном водовороте жизни. Все назойливее терзают душу непрошенные сомнения. Как быть? Как жить дальше? Долго ли так проживешь? И жизнь ли это, когда нет уверенности в завтрашнем дне, когда не знаешь, даже представить себе не можешь, хотя бы приблизительно, предположительно, по какому руслу потечет житье-бытье твоих детей и внуков?
Разве не это сейчас происходит едва ли не повсюду на земле, несмотря на все демагогические заявления политиков всех мастей, на все старания малохольной идеологии и одиноких донкихотствующих пастырей? Разве «пришлые» не видят оскал церберов возле националистической помойки? Разве не слышат они время от времени трубадуров лжепатриотического угара? Не чувствуют укусов щенков враждолюбия? Разве не внушают «некоренным» оракулы пустомыслия сомнительный тезис о том, что «пока один не сгинет, другому нет житья»? Э, все видят, все слышат, все чувствуют и потому шарахаются кто куда, из края в край, с места на место в поисках пристанища на неспокойной земле. Но кто кого ждет, где она, обетованная земля или пресловутая историческая родина для сбившегося с толку на исторических ухабах бедного люда?…
Еще недавно на приветствие: «Как живешь?» следовал, как правило, более менее надежный ответ: «Спасибо», «Слава Богу», «Шукур», «зозо-лала», «ничего», «вашими молитвами», «грех жаловаться», «в общем-то прилично». Ныне сплошь и рядом отвечают на порядок ниже: «Э, так себе», «как придется», «кое-как», «существуем», «выживаем», «шебуршим», «скрипим», «доживаем». Оптимизм почти везде пошел на убыль. Такова примета, каинова печать переходного периода.
Поневоле задаешься вопросом: откуда такая неуверенность, это гибельное ощущение временности и неполноценности бытия? Что послужило поводом для изматывающих сомнений? Какие ветры навеяли это чувство дискомфортности, неуюта, неприкаянности в наши дни особенно среди людей, стыдливо или откровенно называемых «некоренными», «пришлыми», «меньшинствами», а то и вовсе «чужаками»? Что мешает им вписываться безболезненно, без каких-либо комплексов и психологической маяты в данное общество, все равно, какое – казахское, узбекское, киргизское?
Так что же случилось? Всегда ли это было? Или это следствие каких-то новых общественных потрясений? Горестный результат социальных и национальных сдвигов?
Может, многомудрые политологи и обществоведы и знают ответ, но рядовому человеку уразуметь все происходящее вокруг явно не под силу. Вот он и шарашится, точно застигнутый врасплох таракан, изводит душу, ходит, как потерянный, живет точно во сне. Возможно, в своей душевной неустроенности отчасти он и сам повинен? Бог весть… Вразумительно ответить не каждому дано.
Российские немцы, очутившиеся по злой чужой и доброй своей воле во всех закоулках в одночасье распавшейся последней империи на земле, сорвались с мест и уезжают отовсюду – особенно интенсивно, массово из Средней Азии и Казахстана. Так приходит в движение оползень с горы после затяжных дождей. Есть регионы, из которых немцы выехали, оставив добротные постройки и ухоженные подворья, в своем большинстве. Ни память о пережитом, ни славные следы праведных трудов своих, ни дорогие могилы близких – ничего не в силах их остановить. Слишком тяжек груз обид, слишком ничтожна вера в будущее, слишком очевидны потери всего того, что составляет национальную сущность.
Еще недавно в Кыргызстане, например, немцев было более ста тысяч, ныне осталась пятая часть. Несколько лет назад, когда мы впервые создали в Алматы немецкий культурный центр, в городе проживало двадцать четыре тысячи моих соплеменников. Ныне их, думаю, наберется тысяч восемь-девять. В Таджикистане их остались единицы. В Ташкенте, пожалуй, обитает всего несколько сотен потерянных немецких теней. И поток эмиграции немцев в Германию не убывает. Когда я вижу разномастную толпу у германского посольства на улице Фурманова в Алматы, мне каждый раз становится не по себе. И хотя благоустроенная, сытая Германия уже задыхается от разноплеменного многолюдья и на российских своих сородичей все более взирает отнюдь не с братским умилением, а как на паршивую овцу из чужой отары, однако верная своей государственной политике, национальному честолюбию и Основному закону, продолжает заученно твердить: «Das Tor bleibt offen».
И наши немцы, зачастую сохранившие лишь немецкую фамилию, и то в весьма изуродованном виде, с русскими именами и отчествами, охотно и благоговейно этому верят, этим утешаются, восхищенно хлопают в ладоши каждый раз при упоминании об открытых воротах, и косяками лезут в эти самые Tor, прихватывая по пути длинный хвост своих иноплеменных родственников – представителей всех этнических групп СНГ в самых диковинных сочетаниях и вариациях, хотя и сами убеждаются воочию: не особенно они желанны, ни в какие контакты с ними не вступают, еле терпят как бедных родственников, которых и немцами-то не считают, а упорно называют русскими, живи хоть десятилетиями и шпрехай без запинки,густо пересыпая свою речь англицизмами и модными словечками типа «о кей», «супер», «толь», «прима», и Tor действительно bleibt offen, но стены трещат, как и госбюджет, в лагерях для поздних возвращенцев все тесней, в пору наращивать нары уже в три-четыре яруса и растянуть общий сортир на добрый квартал, и Германия, хоть и немалая, а все же не резиновая.
Бывали времена, когда о российских немцах вообще не упоминали. Они были табу. В официальных данных переписи населения немцев в Советском Союзе относили к графе «и другие». Сколько тысяч тобасаранов проживает на шестой части суши, аккуратно указывалось, а сколько миллионов немцев все еще уцелели на этом же пространстве, всячески скрывалось бдительными органами бог весть от кого. Потом вдруг остановились на цифре два миллиона. Дескать, около миллиона осели в Казахстане и немногим более – в России. Затем цифра выросла до 2,2 миллиона. Прошло несколько лет. В Германии объявили, что с 50-х годов из России переселилось один миллион двести пятьдесят тысяч «шпэтхаймкереров», то бишь, поздних возвращенцев. Казалось бы, примерно на столько же немцы должны были сократиться в бывшей российской империи. Ан нет, их становилось с каждым годов все больше и больше.
Те, кто в годы ленинско-сталинской национальной политики превращались из Павла в Савла, переоформлялись в русских, украинцев, открещивались от своих сомнительных с точки зрения правящей гнусной идеологии, вдруг энергично бросились восстанавливать свою национальную идентичность.
Дети смешанных браков также едва не повально перекинулись в стан еще недавно изгойной нации. Выяснилось, что у многих не только русских, украинцев, но и у татар, мордвы, казахов, коми, чукчей, ханси и манси бабушки и прадеды оказались немцами. Кое-кто даже «фонами». Всю жизнь промыкался простым Фрошайзером, теперь настаивают, чтобы его называли не иначе, как Фрошайзером фон Ашенбах.
Быть немцем – о времена, о нравы! – стало престижным, как в петровские времена, когда пройдошливый Меньшиков обратился к государю: «Мин херц, сделай меня немцем».Не надо уже никого бояться или даже стыдиться. В результате столь крутых метаморфоз совсем недавно промелькнула в печати сокрушительная цифра – семь-восемь миллионов. Якобы именно столько этнических немцев все еще обитает на бескрайних просторах бывшего Союза нерушимых. И главное: большинство из них – о Аллах, о майн Готт! – жаждет возвратиться в свой исторический фатерлянд. Иначе, цум Тойфель, какой смысл был национально идентифицироваться?!
Германские благодетели-политологи, узнав об этом, едва не свихнулись. Либер Хайланд, будет ли этому когда-нибудь конец? Это же непорядочно, неблагородно! Столько лет твердили на всех перекрестках о двух миллионах единокровных братьев, дьявол бы их побрал, теперь что же получается? Всем вдруг разом захотелось германского рая – пива, колбасы, порядка и уюта.
Да, было время, когда в Германии шумно радовались возвращению на землю предков тысячи-другой соплеменников из коммунистического плена. Даже торжественно отметили прибытие в мир свободы стотысячного этнического немца из России. Как же, это была впечатляющая политическая и идеологическая победа, особенно в эпоху холодной войны. А вот уже по поводу миллионного позднего возвращенца, зафиксированного переселенческими службами, в Германии никто уже в литавры не бил и чепчиков в воздух не бросал. Наоборот, говорили о том с нескрываемой озабоченностью, с прискорбием.
Бесконечные делегации, зачастившиеся из Германии в последнее время, — депутаты Бундестага и Бундесрата, деятели общественных, партийных и религиозных организаций, журналисты всех мастей, — встречаясь с представителями разных слоев этнических немцев, жадно допытываются: что мешает тутошним немцам обустроить свою жизнь здесь, на местах давнего проживания, что нужно, чтобы приостановить поток эмиграции, как переломить психологический настрой, ведь Германия готова оказывать любую помощь – социальную, гуманитарную, культурную, общую, целевую, адресную, открывать совместные предприятия, сыроварни, колбасные цеха, фирмы, все, что угодно, только оставайтесь на местах, не усложняйте свою жизнь и нашу тоже.
Нет, нет – уверяют эти делегации с жаром, — никаких преград мы не ставим, квота сохраняется, по-прежнему das Tor bleibt offen, и Конституцию менять не собираемся, и 116 статья останется в силе.Что ж… приезжайте согласно закону и инструкциям, братьев своих единокровных в беде не оставим, но все, все же, поймите, в Германии всем места не хватает, нет работы, проблема с устройством, коренные бюргеры, налогоплательщики ропщут, с какой стати, мол, мы должны на этих тунеядцев с Востока жилы тянуть, Lebensraum свой уступать, тесниться, отдавать рабочие места, терпеть их нравы и обычаи, которые чаще всего идут вразрез с нашим устойчивым и излюбленным Ordnungом, и чего вы там, в Германии, не видали, когда язык потеряли, обрели русский менталитет, азиатские привычки, размах иной и манеры другие, и профессиями владеете такими, которых в Европе не существует уже сто лет, и песни ваши, и обряды, простите, воспринимаем, как папуасскую экзотику.
Чтобы вас, этнических немцев, перемолоть, перетолочь и сотворить из вас наше подобие, ей-ей, понадобится три-четыре поколения. Ведь ваши мужики, простите, глушат водку, работают тяп-ляп и вечно недовольны; ваши фрау плодят детишек без оглядки и при родах кричат на бог весть каких наречиях, а детки ваши, едва появившись на свет, прибегают поминутно к столь изысканному и кучерявому русскому мату, этимологию и многозначность которого не в состоянии расшифровать наши многажды раз остепененные в европейских университетах и академиях лингвисты-политологи. Ну, сами поймите, нет никакого резона срываться вам с обжитых мест, бросать все, нажитое десятилетиями, оставлять добротные, просторные дома, огороды и дачи, а главное – работу, которая вам в Германии и не снится, и привычную среду, обстановку, друзей и товарищей. И опять-таки скажите, положа руку на сердце, разве о вас не заботятся ваши местные власти? Сколько комплексных программ принято, сколько разных мероприятий проведено, какие условия созданы для удовлетворения ваших национальных нужд и потребностей?! Вас активно привлекают ко всем общественным, партийным, государственным делам, о чем вы в Германии и мечтать не сможете. Разве не так?
Так говорят, так убеждают уполномоченные из Германии, встревоженные нескончаемым потоком пришельцев – этнических собратьев из Содружества Независимых Государств, на встречах, но собратья понуро выслушивают все эти увещевания на русском и немецком языках, шмыгают носом, чешут затылки, а потом какой-нибудь Хайнрих из Коктерека или Аксу глубокомысленно изрекает: «Ай, das ist alles агитация». Российский немец, в течение десятилетий прошедший через густые заросли лжи, предпочитает ничему уже не верить. И не верит. Верит только в себя, в свою крестьянскую смекалку, в свое упорство и сноровку, в то, что ослиное трудолюбие вытащит из любого болота, и для этого достаточно житейской предприимчивости, а не знания-учения, ради которых столько лет приходится протирать штаны. Какой-нибудь Хайнрих или Михель из казахстанской глубинки убежденно верит только в то, что он наверняка знает, а все, что ему неведомо, — «ай, das ist alles агитация!» И в этой его убежденности не выбьют его из колеи ни закордонный доброхот, ни тем более доморощенный умник, который, как попугай, долдонит исключительно по подсказке вконец изолгавшихся властей.
А посему нечего слушать краснобаев ни von Hüben, ни von Drüben, ни отсюда, ни оттуда, все одним миром мазаны и только норовят обдурить, обмишурить нашего брата. И зачем нужна мне их «агитация», когда Иоханнес из Куприяновки погостил у своего братана Федьки-Фрица, помог там какому-то Бауэру убирать томаты, поишачил недельки две и пригнал оттуда машину-згляденье. Здесь бы ему ее век не видать, хоть во время уборки по 19-20 часов с комбайна не слезает. Каково? А вот задрыпанная Катька Энгель из Жана-су, которая всю жизнь в ауле шаталась, дома белила, на подхвате была, пожалуйста, укатила на «тайчланд» и за каких-нибудь полгода и квартиру заимела, и живет на одной только «социалхильфе» как у бога за пазухой. А вы говорите.. Оставьте вашу агитацию! И про язык не заикайтесь. Чтобы двор подметать, окна или сортиры мыть, поухаживать за старушками в доме презрения или как они там… я и без языка обойдусь. Ну, а детки-внуки выучатся, коли нужда заставит. Не глупее других. Вот так вот! А Германии мы нужны, потому-то, сами слышали, из года в год повторяют: «Das Tor bleibt offen». И вот, пока калитка не захлопнулась, надо успеть сесть в последний вагон.
Так рассуждают тысячи и тысячи хайнрихи из Коктерека и михели из Аксу. «Не нужны нам ни комплексные программы, ни школы, ни учебники, ни гуманитарная помощь, ни видергебурт, ни Фау-де-А! Подай эшелон, погрузи всех нас в вагоны и отправь в фатерлянд. И баста!» Вот и едут, едут, едут…
Когда я об этом массовом настрое-психозе поведал депутатам Бундестага при встречи в Германском посольстве в Казахстане, один из гостей схватился за голову и трагическим голосом произнес: «Если еще года три так будет продолжаться, для Германии это катастрофа!»
Не знаю, не знаю… не мне судить. Но чудится мне отсюда, со своей колокольни, что то вавилонское столпотворение, происходящее ныне в Германии (да и во всей Европе), вряд ли обернется добром. И неизвестно мне, просчитали ли, прогнозировали ли трезвые аналитические умы в Германии все возможные последствия от этого великого переселения народов этак через тридцать-пятьдесят лет.
«Нет, нет…мы контролируем ситуацию», — уверяют обычно высокопоставленные гости из Германии. «Дай-то Бог!» — говорю я в ответ, замечая, однако, на челе своих немецких собеседников печать озабоченности.
Меня, разумеется, прежде всего заботит нынешнее положение Казахстана, на терпится увидеть, когда и как он выберется из глубокого кризиса по всем параметрам. Я не осуждаю никого, кто покидает его в столь тяжкое время, человек волен распоряжаться своей жизнью, своей судьбой, хотя мне и очень жаль, что покидают Казахстан как раз в то время, когда он особенно нуждается в добрых, созидающих руках. Не могу быть также равнодушным и к судьбе Германии. А мне все назойливей мерещится, что в ней подспудно назревают более чем серьезные проблемы. Но не о том сейчас речь…
Я уже не могу сосчитать, сколько человек из моих знакомых эмигрировали в Германию за последнее десятилетие. Сотрудники немецкой газеты, радио, телевидения, издательства сменились почти все. Среди активистов Немецкого культурного центра в Алматы я уже редко встречаю знакомые лица. Катастрофически редеют ряды деятелей немецкого движения, с которыми сталкивался годами не многочисленных съездах, конференциях, пленумах в разных городах СНГ. Кое-где опустели целые немецкие села. За прилавками на зеленом базаре в моем городе немецкие лица почти не встречаются. Не вижу ныне тех чистеньких, аккуратных старушек и кругленьких, рыженьких с конопатинкой приветливых молодок-немок, которые торговали на Кек-базаре сметаной, творогом, яйцами, салом, квашеной капустой и прочей отменной снедью. Ныне больше всего отечественных немцев собирается у здания германского консульства. И это никак не радует.
— И как ты, Альма, представляешь свою жизнь в Германии?
— А никак…Сколько наших уже там? А никто не жалуется и назад не возвращается.
— Конечно…Куда им? Ни кола, ни двора…все продано на корню.
— Хуже не будет. И для себя ничего не жду. Буду жить на пособие матери-одиночки.
— Больно скудно…
— Ну а здесь не скудно?
— Тебя здесь преследуют, не дают работать, в чем-то ущемляют?
— Нет, этого сказать не могу.
— Тогда что?
— Ой, не знаю. Не могу объяснить…Но душа не на месте.
О чем спорить? Веский аргумент: семьсот тысяч евреев из России уехали; полтора миллиона немцев…а сколько греков…сколько русских…Велико искушение: тот уехал, этот собирается. И живут – кто на Sozialhilfe, кто на Pension, кто на пособие безработного, кто что-то имеет за вдовство. Пишут: не роскошно, а на среднюю жизнь хватает.
И то верно: что за жизнь, коли душа не на месте?..
Дивный город – Ташкент. По-восточному многоликий, пестрый, потрясающий. Город умопомрачительных базаров и величественных мечетей. Сплетение прошлого, настоящего и будущего. Не город – государство. Не в каждом государстве проживает столько наций и племен. Калейдоскопическое соцветие человеческой цивилизации.
Как включить в водоворот бытия этот огромный разношерстный почти трехмиллионный люд? Какой идеей его зажечь, увлечь? Какой целью объединить? Как и чем пробудить каждую душу? И мыслимо ли сделать так, чтобы каждый двор, каждая махалля, каждый микрорайон ощутили себя полноценной, здоровой клеткой гигантского города-государства – своеобразного, своеобычного, с глубокими вековыми корнями, традициями,
Обличием, менталитетом, нравами, причудливо сложившимся укладом жизни, магнетизмом, обаянием? Ведь общество тогда лишь здоровое, поистине гражданское, если каждый человек чувствует себя не одинокой песчинкой в океане бытия, а человеком среди людей. Вписывается ли отцовское подворье на Байсунской, 59 с его обитателями в этот мегаполис, ощущают ли себя потомки Карла и Анны Бельгеров из поволжского села Мангейм полноценными и полноправными гражданами этого государства или живут, как живется, обитают, проживают просто, без сердца, без сознания своей нужности, причастности к великому кочевью людей без любви, вне бушующей вокруг многокрасочной жизни?
В саду хлопочет отец, спасая созревший коксултан от обжорливых афганских воробьв. За столом во дворе пьют спасительный от жары кок-чай его дети и внуки. Тут же резвятся его правнуки – певунья и плясунья. Вески, молчаливо-сосредоточенный Арсен. Причудливая смесь кровей – потомки моих родителей. Одни пишутся русскими, другие – украинцами, третьи – армянами, четвертые – немцами, пятые – с примесью татарской, мордовской и бог весть еще какой кровей, и в каждом из них есть частица души и крови немки Анны, дочери капельмейстера Давида Гертера, бесследно исчезнувшего в годы крутых перемен еще до моего рождения. Мама за свою долгую жизнь немало доброго сотворила, всех, кто толпится сейчас на этом дворе или находится в отлучке, щедро одарила своей любовью, вниманием и лаской. И о всех она думала, заботилась, печалилась до самого последнего своего часа, пока не переселилась на постоянное местожительство в Домбрабад. Воздадут ли ей благодарной памятью ее многонациональные потомки, чьи души озарены неугасимым светом ее доброго сердца? И вообще, что там, впереди?
Герольд Бельгер
Все самое актуальное, важное и интересное - в Телеграм-канале «Немцы Казахстана». Будь в курсе событий! https://t.me/daz_asia