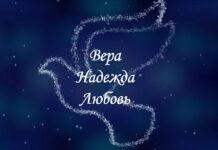Часы неразборчиво всхлипнули и высморкались. Сейчас распахнутся бурые створки и вынырнет из норки старый купидон с облезлой позолотой, станет манерно вертеться, грозя своим игрушечным луком. Купидон состарился и стал спотыкаться, но по-прежнему жеманничает, как институтка. Стрела у него длиной со спичку, да и та обломана невесть в какие времена. Но не знает того подслеповатый облупившийся божок, приседает кокетливо, пятится, а потом и вовсе пропадает в своем старомодном логове. Хлюпают створки. Это значит — что-то около полуночи.
Это значит — сегодня ты не придешь.
Это значит — ты не придешь никогда.
Это ровно ничего не значит.
От него пахло сигаретами и почему-то — медом. И имя у него было такое же густое, древнее и душистое, как мед, — Илия. Именно так, тягуче и длинно: Илия. У него были крупные, красиво вылепленные руки.
Бог знает почему, глядя на мужчину, я всегда сначала смотрю на руки, словно они могут открыть — вынесет ли, вынянчит, укроет, спрячет?
То, что меня в мои двадцать пять нужно носить, нянчить, укрывать и прятать, я уже знала. И эти самые, пахнущие сигаретами и медом, показались мне способными все эти глаголы из неопределенной формы перевести в какую-то более личную.
Но моя дверь с этим не соглашалась.
Вы незнакомы?
Это — моя дверь. То есть не моя, конечно, а моего платяного шкафа. Шкаф старый, гробовато-громоздкий, еще при бабушке сосланный в подвал и извлеченный оттуда только тогда, когда понадобилось хоть чем-то занять мою совершенно отдельную от всего мира хрущевку.
Собственно, это даже не шкаф, а шкап, еще прабабкин.
Прабабка была красавицей.
Пела дивным голосом, играла на рояле и пленяла мужские сердца своими магическими зелеными глазами.
При ней все вообще было по-другому. Большая комната звалась по-старинному залой, и в зале этой, как диковинные звери, жили мебели. И что за чуднЫе заморские названия у них были! Такие же чудные и заморские, как они сами. Они всегда напоминали мне сказку об аленьком цветочке, в которой дальновидная сестрица непутевой Аленушки заказывала отцу тувалет хрустальный.
Тувалетов у прабабушки, правда, не водилось, зато были какие-то трюмо-секретеры-трельяжи-комоды-шифоньеры и прочие старорежимные твари.
Мир был надежно утвержден на этих дубовых слонах, китах и черепахах.
В утробе серванта покоились твердые крахмальные скатерти, серебряные ножи с костяными черенками, пасхальный сервиз и золоченая фарфоровая ваза.
В шифоньере (или это было трюмо?) пряталась полысевшая бархатная коробочка с прабабкиными кольцами и серьгами (бабушка хранила их для меня).
Мир был прочен и дышал тем особым запахом, какой бывает только в стариковских квартирах и от которого почему-то сжимается горло…
Но давно уже растаяли в комиссионках прабабкины кольца, развалился и остров сокровищ — допотопный сервант, и тихо кончил свой век старинный дом…
Но кое-кто из его обитателей все-таки выжил.
Тот зверь, что достался мне, прежде, при прабабке, именовался гардеробом.
Бабушка звала его уже скромнее — шкап (со вздохом): как-никак, время касалось и ее…
А когда оно перестало касаться бабушки, дубовую рухлядь снесли в подвал. Откуда и вынырнула она совсем недавно.
Вновь увидев свет Божий, левиафан-шкап стал медленно просыпаться, выплюнул затхлую подземную пыль, отряхнулся, поплыл, охнул и осел у меня в углу.
Вот тут-то и обнаружилась дверь. Собственно говоря, она имелась в наличии всегда. Только прежде дверь слыла легкомысленной болтушкой, поскольку была так же юна, как шкап.
Но стоя в подвале, шкап многому научился, многое передумал, и вот теперь я беседовала с его умудренной жизненным опытом дверью, сидя в общипанном, но все еще мягком кресле.
Эти разговоры вошли в мою жизнь так же сумасшедше-легко, как вошел в нее ты.
Правда, днем мне самой это подчас казалось странным, но приходил вечер, и все расставлял на места, я опускалась в кресло, а дверь начинала покачиваться и поскрипывать.
Что ж, дверь так дверь. Собеседник не хуже остальных…
Так вот: она не доверяла этим красивым и сильным рукам. Бог знает почему, они ей не нравились. А мне нравились, и даже очень, и потому разговор не клеился.
-Он хороший, — в который раз рассеянно повторила я.
— Да ну? — насмешливо удивилась дверь.
Она вообще умеет говорить только да и ну, но делает это так, что подчас и этого кажется много. Вот и сейчас ее да ну? ясно говорило, что меда и сигарет мало, и красивых рук мало, и даже густого древнего имени не довольно для того, чтобы она согласилась с он хороший. Нужно было много больше, а ничего больше я о нем не знала. В сущности, я не знала о нем ничего.
-Ты это имеешь в виду?
-Ну да, — закивала она, радуясь моей понятливости.
Но я не уступала. Запах меда и сигарет еще жил в моих ноздрях, и я подчинялась ему безропотно и радостно.
-А если я люблю его?
-Д-а-а-а? — цинично протянула она, и я поняла, что это означало. Означало же… ну, в общем, много чего, что относилось к прошлым, но не столь давним временам.
У мебели хорошая память.
У людей похуже.
У женщин же вообще с памятью плохо, потому такое бестактное напоминание застало меня врасплох.
-Тут другое, — поморщилась я.
-Ну да, ну да, — комично соглашалась она.
Это каждый раз бывает другое, и вчерась, и третьего дни, а потом оказывается — все то же самое.
Странно: она не упрекала, не впадала в менторский тон, но во мне почему-то нарастало раздражение.
-Ты мешаешь мне жить, — вдруг поняла я.
-Ну-ну, — прошептала она, то ли утешая, то ли соглашаясь со мной.
-Ко мне?.. Нет, лучше я к тебе, — поспешно согласилась я, косясь на шкап.
— Хорошо, через полчаса. Договорились.
Я уже знала, что произойдет дальше, и не хотела, чтобы дверь это видела. Что ни говори, предков надо щадить.
…А потом я сидела у стола и смотрела на твой заснеженный подоконник, и красивые мужские руки сняли джезву с огня и придвинули ко мне дымящуюся чашку. Какой у тебя холодный, холоднющий стол. Разве я этого не знала? Все, что могло быть, уже произошло, только что, вот тут. Мерзкий стол, лед просто.
…Посадишь меня в такси. Нет, ты, к сожалению, не можешь поехать со мной, увы, тебя ждут, ничего не поделаешь, это важно; но на будущей неделе — ты ведь свободна на будущей неделе? О да, и на будущей, и всю последующую долгую жизнь.
Я свободна. От твоих рук. От любимого имени. От тебя.
Чашка запрыгала в руках, и несчастье обожгло мне колени. Слезы мешали дышать.
— Просто безобразие, какой холодный…
…В такси было зябко, в голове — пусто. Разве это мой адрес? Ну, раз так сказал, значит, туда и везите. А он только это сказал?
Таксист искоса глянул на меня в зеркальце и отвернулся. Потом вздохнул и тронулся с места. Таксисты иногда бывают удивительно проницательны. Почти как двери.
…Часы давно остановились и не спотыкается в своем реверансе жеманный кукушонок Купидон.
Свитера и джинсы больше не живут в старинном гардеробе, а валяются все в том же общипанном кресле, потому что там, где стоял гардероб-шкап, в решетчатой деревянной кроватке тихо спит сын.
Нет, это не твой сын. Он появился на свет много позже и знать ничего не знает ни о дверях, ни о пролитом кофе. Но кого я обманываю? он и твой тоже. Он пахнет тобой и мной: молоком и медом.
И это конец истории про дверь.
Впрочем, кто знает, может быть, она и ошибалась. Может, когда-нибудь, пробегая по улице, я вдохну колючий зимний вечер, и он отзовется сигаретами и медом, и я обернусь, и это будешь ты, с твоим текучим древним именем и неизменно красивыми пальцами. Прохожие и ветер будут спотыкаться о нас, и мы тоже будем спотыкаться о себя самих, и молчать, увязая в сугробах своей памяти и отчужденности.
…Но кто-то выйдет из кофейни, радостно зазвенит колокольчик на двери, и вырвется на мороз знойный дух крепкого кофе.
Мы разом повернемся на запах, потянем носом, и, переглянувшись, усмехнемся.
Все прошло, и ничто уже не будет как раньше, но почему бы нам и в самом деле не выпить кофе?
Светлана Фельде
09/09/05
Все самое актуальное, важное и интересное - в Телеграм-канале «Немцы Казахстана». Будь в курсе событий! https://t.me/daz_asia