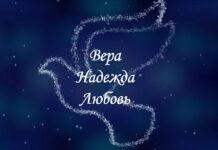Якоб шагал по вспаханному с осени полю. Шел он медленно, отмерял десять шагов вдоль, останавливался и хватал горсть пахучей земли, сжимал как хлебный мякиш, поднимал руку к самому сердцу и ронял поднятую землю на место. Следующие десять шагов он делал поперек и снова останавливался, повторял одну и ту же процедуру.
— Господин Гардт, над чем колдуете? окликнул Якоба юноша, ехавший верхом мимо из районного центра.
— Колдую не я, это земля со мной играет. На горизонте, видишь, марево пляшет? Это вода из почвы убегает. Каждый час ровно столько, сколько приносит четверть часа дождя. Вот и играю в ответ земле, чтобы не проиграть. Если сжатая в руке земля разваливается при падении пора пшеницу сеять. Это овес брось в грязь будешь князем, а с пшеницей точность нужна. Так меня отец, дед, прадед учили.
— А ты чей будешь? Куда путь держишь?
— Я-то? Я сын Корба. Симоном зовут. Еду в Рундевизе и Кальчиновку. Уполномочили на первый коммунистический сев.
— Почему коммунистический? Почему первый?
— Коллективизацию закончили, вот власть и назвала Она теперь и сроки, и глубину сева определила, а нас на контроль к вам послала.
— Коллективизацию, говоришь, завершили А как же единоличники?
— А где они? Помещиков выслали. Вторым эшелоном справились с кулаками. Дружно проведем коммунистический первый сев, будем с большим хлебом, единоличник сам в колхоз явится.
У Гардта отпала всякая охота терять время. Бойкий кавалерист, явно из комсомолки, победно пел явно не со своего голоса. Но разговор запомнился, хотя усмешку скрыл в пышных буденовских усах.
Юный Корб пустил коня рысью по меже. Уже отъехав на большак, он споткнулся мысленно на вопросе пахаря о единоличниках. «И почему я не отрезал ему: да ликвидировали как класс, ибо оставить невозможно, это закваска, и она родит подкулачников. Кажется, так говорил председатель райисполкома, когда напутствовал уполномоченных».
В напутствии был еще один весьма щепетильный момент: присмотреть в каждом селе дом, лучше два под школу и детский сад, которые будут открывать повсеместно.
По осени Якоб Гардт собрал на редкость хороший урожай. Соседи справа и слева не удивлялись. С хлебом был и колхоз, хотя по урожайности от единоличника сильно отстал.
«Вот теперь бы с тобой, товарищ Корб, господин уполномоченный, поговорить» — сказал сам себе Якоб, когда усаживался за обед, где обмолачивал снопы.
— С кем и о чем ты разговорился? заинтересовалась Катя, оглядываясь по сторонам.
— Да был у меня на поле по весне в гостях уполномоченный. Интересные мысли высказывал. Хорошо бы продолжить обмен.
— Наверное, тот пацан, что заезжал когда-то, лошадь напоил, домом полюбовался.
— Может и он, да бог с ним. Много их наезжает, да много ли поймут в наших трудах-хлопотах.
Жизнь колхозная и стоявшего особняком Якоба Гардта шла параллельно и не должна бы пересекаться. Так думали в Рудневизе и в Кальчиновке. Более того, во всей округе крепкого хозяина Гардта слишком хорошо знали, уважали, а кое-кто и завидовал. И не только в своем селе. У друга Якоба, Людвига Гартунга, замуж выходила дочь Шарлота. Отдавали ее за сына мельника в райцентр Молочанск. Людвиг явился к Якобу с просьбой: дать саврасых и карету под невесту с женихом.
— Не только дам, но и охотно сам повезу.
Саврасые, словно понимая торжественность и нарядность момента, парадно несли головы, играли гривой, звенели удилами и бубенцами. Прохожие останавливались, глазели, расспрашивали: «Чьи, да куда?»
Когда создавали колхоз, на собрании был и Якоб. Вернулся он домой опечаленный. Жена не смогла из него слова вытянуть. А в воскресенье Якоб исчез. В церковь не пошел. Уехал верхом на саврасых.
Вернулся Якоб в потемках. Одна лошадь под седлом, а еще две в поводу. Жене строго-настрого наказал: поменял, за два саврасых три дали только так и отвечать
Кате объяснять не нужно было. «Мой лошадник скорее сам хомут оденет, чем видеть, как саврасых кнутом каждый колхозник хлестать будет» Что правда, то правда.
Этих саврасых Гардту напомнили потом не раз. Особенно когда уговаривали вступить в колхоз. «Кони мои явно приглянулись кому-то из районного начальства. Теперь и дом уже приметили».
Якоб потерял покой. Он вспоминал, как свезли на станцию первых, самых хозяйственных крестьян. Самые никчемные мужичонки всех яростнее злословили на собрании в их адрес, дружнее других голосовали за выселение. Сам Якоб воздержался. В столь крутых решениях горячие головы только навредить могут. Даже многие месяцы спустя после первого собрания Якоба преследовали слова укора, на которые решился Конрад Гартвих: два столетия складывались наши родовые поместья. Не все из нас начинали на черноземе. Иным выпадал и солончак. Таков был публичный жребий. Счастливы были мужчины, если жены из года в год рожали сыновей-работников.Теперь мне говорят: такова судьба. Но судьба эта написана не на небесах, а в Питере, революционными матросами, людьми, которые пахали море-океан. Да знает ли хоть один из них азбуку земли? Я имею в виду тех, что тысячниками направлены к нам.
После первого собрания с такой траурной повесткой дня было и второе. Гардт на него не пошел. Голосовать против он сумел бы. Но был бы, наверное, в одиночестве. На третьем собрании, когда, казалось, раскулачивать уже некого, откровенно заговорили о плане, разверстанном для каждого села. Иными словами нет кулака, нет подкулачника, хватайте единоличника, выкорчуйте его из земли, в которую он врастал многими поколениями.
Пока прокуривали активисты председательский кабинет, пока назывались возможные кандидаты для спецпереселения на и за Урал, под дверью ухо востро держал Людвиг Гартунг. А когда уполномоченный внес в список Якоба Гардта, дежурный оставил свой пост. Людвиг из всех ног пустился к другу. Стояла полночь. Вот-вот поднимется молодой месяц.
Легкий стук в оконную раму подбросил Якоба. Он спал как заяц в полнолуние уже несколько недель. Дорожный саквояж, сухари, хлеб и сало, одежда для Сибири все было готово. Знал об этом только Людвиг.
Отворив окно, Якоб почти скомандовал: «Дуй на общий двор, запряги лошадь и отвезешь на станцию. Я уеду к первым высланным без всякого собрания. Семью переправишь весной. Зубоскалить и улюлюкать над собой не позволю. В свои сорок шесть лет я найду в себе силы начать с начала. Там, куда я поеду, люди жили и до нас. Навязанную мне судьбу я вызываю на скрытую дуэль» Он говорил и одевался очень торопливо. Он говорил, но кому? Этого он и сам не знал, Скорее самому себе. Катя обошла спящих детей. Ее уже много дней терзал один вопрос: как я буду с ними одна? Было от чего терзаться. Трое взрослых и шестеро мал-мала-меньше. Самому меньшему восемьЖизненные силы Кати были под стать мужу. Рожала она как бы, между прочим. После стирки, после того как хлеб спекла, капусту заквасила. Без шума и суеты вокруг себя. Друзья шутили: у вас их как цыплят в лукошке.
Якоб читал мысли супруги. От расставания с детьми он переживал не меньше Кати. Он тоже обошел их по очереди. Кому одеяло поправил или подушку, кого поцеловал, будить жене не позволил. Слезы и так стояли у него в глазах, а в горле стоял ком, мешавший говорить.
Катя предложила чая, но Якоб отмахнулся. Сидя рядом на скамье, он успокаивал жену и себя.
— Доеду, подберу угол, и ты со старшими подъедешь. А младших Людвиг отправит, как тепло настанет.
Она не возражала, хотя и не могла представить, как этот отряд малышей будет через полстраны самостоятельно добираться.
Людвиг с кошелкой, наскоро запряженным старым спокойным мерином явился во двор быстрее, чем можно было ожидать. С неба сыпал мягкий пушистый снег, соединяя землю и небо. Эту погоду Якоб особенно любил. Сегодня она надежно скрывала его следы, унося его все дальше от ненавистного слова «кол-лек-ти-ви-за-ци-я».
До станции назначения Туймазы в Башкирии Якоб прибыл ранним декабрьским утром. Снег под ногами скрипел от трескучего мороза. Он добрался до дома заезжих, как советовали родственники из ранее раскулаченных. Хозяйка постоялого двора определила ему кровать и тумбочку на один день, предложила чай, рассказала, как найти контору Леспромхоза.

Усталый с дороги Якоб, в ожидании самовара, который принесут из ее рядом расположенного дома, крепко задремал. Ему снился сон. Родная Кальчиновка. Весенний сад. Вишни в цвету… В сад с шумом и гамом сбегаются соседи Не то на свадьбу, не то на собрание Гулкий топот сапог И крик. Панический женский крик.
Якоб вскинулся на кровати. В комнату сквозь окна без занавесок ворвался пляшущий свет. Пожар! Кричала хозяйка, обещавшая самовар. Все выбежали за ней. Горела кухня. Пламенем охвачена была дверь и окно. Ни войти, ни выйти.
— Дети! Дети! причитала хозяйка. От колодца к пылающей стене метались люди с ведрами.
Якоб в миг очутился у колодца, ухватил пустую бочку и опрокинул ее на углу дома, куда пламя еще не добралось. Он встал на бочку и как бурый медведь, поднял угол крыши. В образовавшийся лаз он пригласил юношу. Тот сообразил задачу. Уже через секунду он подал первую девочку, затем пацана, еще девочку и только тогда выбрался юноша.
Якоб все это время держал крышу. Мужики принесли жерди, вилы, чтобы подпереть крышу, разгрузить могучую спину этого сообразительного постояльца.
— Ой, рахмет, спасибо, — почти причитала Альфия. Сам Аллах послал мне тебя…
Якоб плохо слышал и еще меньше понимал, что наперебой говорили ему благодарные люди. Его тошнило, и очень сильно. Он стоял не только бледный, но и желтый. Он впервые познал дрожь в коленках. Он спасал чужих детей, а перед глазами отчетливо видел собственную ораву сорванцов. Бледность переходила в желтизну с прозеленью. Его вытошнило.
Дом люди сберегли. Кухня сгорела. Виной тому керосин. Им топили во всех домах, ведь рядом нефтяники. У Альфии дети опрокинули ведро с керосином, и пламя сразу закрыло им выход на улицу и вход в комнаты. Все решали секунды. Так встретил утро первого дня на чужбине Якоб Гардт.
Иван Сартисон
(Продолжение следует).
08/02/08
Все самое актуальное, важное и интересное - в Телеграм-канале «Немцы Казахстана». Будь в курсе событий! https://t.me/daz_asia