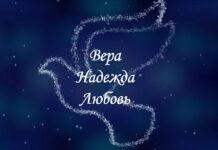…Утром, к завтраку, вернулся папа с ночного дежурства в конторе, заметно взбудораженный, торжественный, повёл-подёргал плечами, будто груз неимоверный сбрасывал, походил-покружился по комнате, потом взялся тормошить Эльму, шутя щёлкнул твёрдым ногтём меня по темени, нетерпеливо-радостно взглядывал на маму.
Откуда бы ни возвращался папа, он обожает, когда его встречают всей семьёй, чтобы увивались все вокруг и подробно расспрашивали обо всём, что он видел и что вообще – пока его не было дома – произошло.
Мерно тикал будильник на камине, менее часа оставалось до урока, и жареная картошка уже дымилась в сковородке на столе, и мама уже разлила по кружкам жидкий ячменный кофе, а папа всё ходил из угла в угол, потирал руки, загадочно и с явной укоризной косился на нас, и я, всё более обуреваемый смутным волнением, наконец, не выдержал, спросил раньше мамы:
– Дежурство прошло хорошо?
Папа сразу просиял, вскинув кустистые белёсые брови.
– Х-ха… «хорошо»! Не то слово, мальчик!
И опять искоса на маму устремил ликующий взгляд.
– Всё, Аня!.. Победа!..
– Что-о? – не сразу поняла мама.
– Только что из района сообщили. Конец войне!
Мама присела на табурет, затеребила передник. Большие чёрные глаза вспыхнули.
– Боже милостивый, наконец-то…
Тикал бездушный будильник, уже отчитывал, не ведая о том, новое, мирное время, и стыли картошка в сковороде и кофе из поджаренного ячменя в алюминиевых кружках, а папа с мамой, точно онемев от великой радости, молчали, переглядывались, улыбались, и я, тоже ещё не осознав вполне, что же такое произошло на свете, тихо, осторожно спросил:
– Что… совсем-совсем конец?.. Совсем победа?
– Совсем, совсем, Гарри! Беги. Сегодня занятий не будет. Сегодня праздник!
Я мигом выскочил, схватив ломоть чёрного хлеба. Аул был похож на тщедушного сироту-ягнёнка, свернувшегося на лужайке, подставив тощий бочок тёплым утренним лучам. На выпасе за домами тонконогие телята щипали едва зазеленевшую мураву.
Старик Абильмажин седлал гнедуху, собираясь, должно быть, проверить капкан в овраге. Вдоль огорода семенил, накинув на плечи чапан, дедушка Сергали. Под предводительством Абикея интернатовцы строем направлялись в столовую.
А далеко, в низине, таяли остатки утреннего тумана.
Во весь дух понёсся я к Ойрату, добежал, рванул дверь.
– Эй, ты что, не знаешь? Война ведь кончилась!
– Как это?
– А вот так! Кончилась! И мы победили!
– Честно?
– Оллахи-беллахи!
Маргипа-апа, сидя на корточках, толкла в ступе пшено.
– Кто тебе сказал, жаным?
– Коке мой сказал. Он в конторе дежурил. Ему из района сообщили.
– Айналайын… Да сбудутся все твои желания… – Апа вдруг выронила пест, начала концом жаулыка вытирать набегавшие без удержу слёзы. – Дожили и до этого дня… Только… только твой коже, Ойратжан, не… не…
Она не договорила; всхлипывая, пошарила в закутке за плитой, вытащила мешочек, сунула нам в руки по горсти твёрдого, бурого курту.
– Вот вам, детки, суюнши. И бегите, обрадуйте всех. Да будет благословен этот день!
И побежали мы от дома к дому, размахивая руками, обгоняя друг друга, и, не жалея глоток, кричали:
– Ата! Война кончилась! Мы победили! Суюнши!
– Апа! Конец войне! Суюнши!
– Аже! Победа! Суюнши!
И аулчане плакали и ликовали, обнимали и ласкали нас, благословляли и одаривали, кто чем мог, и мы – счастливые гонцы, гордые вестники мира – ощущали себя причастными к чему-то непостижимо прекрасному и доброму.
К обеду весь аул – от дряхлых старцев до несмышлёной малышни – собрался на зелёном лугу возле школы. Радужное слово «ПОБЕДА» уже успело обрасти подробностями, и каждый стремился придать ему ещё какой-нибудь красочный оттенок.
– Ойпырмай, говорят, в пыль разнесли фашистов.
– На большую контору, в которой трусливый Китлер спрятался, красный флаг водрузили.
– Наш Шаймурат небось по улицам Берлина теперь гуляет.
– Под ручку с какой-нибудь голубоглазой…
– Ещё говорят, один из их главарей на Коране клятву давал: никогда, дескать, с орысами воевать не буду.
– Куда им?!..
– Стро-о-ойся-я! – надрывался Абикей.
Неугомонный военрук, воспитатель интернатовцев, младший лейтенант Красной Армии, уже осенью сорок первого вернувшийся в аул без правой руки, в День Победы повёл праздничную колонну по аулу.
– Дружней! Собранней! Чётче! – командовал Абикей, бегая вдоль колонны. – Шагом-м-м… арш!!
Всех Абикей выстроил в ряд, всех от мала до велика, не обращая внимания на шутки и смущение аулчан, отродясь не ходивших вот так, гурьбой, в какой-то колонне, средь бела дня вокруг аула.
Интернатовцы с флагом, с портретами вождей дружно, в лад затопали, не щадя недавно выданных парусиновых ботинок-колодок, за ними потянулись остальные школьники и замыкали строй взрослые, кроме нескольких стариков и старух, оставшихся сидеть полукругом на зелёной лужайке.
Шла праздничная колонна по аулу. Шла в честь великой Победы. И радость светилась на измождённых лицах. И, озираясь на строгого Абикея, молодка-Зайра затеяла неуместный разговор:
– Оу, все говорят: «Симон-шал», «Симон-шал», а он никакой не старик, а джигит…
– Ишь, ты!.. Джигитов высматриваешь, а?
– Да нет, ойбай! – зарделась Зайра. – Я просто говорю, что молодой…
Симона-шала и впрямь было не узнать. Он сбрил свою кудлатую бороду, вырядился в серый пиджак и широченные брюки; высокий, сутуловатый, горбоносый, как-то вмиг помолодевший, не по-аульному одетый. Поблёскивая круглыми, печальными глазами из-под очков, он что-то говорил на мудрёном Hochdeutsch маме, всё норовил приласкать, прижать к себе строгую Эльму. Папа шагал, вскинув голову, глядя вдаль. видно, вспоминал торжественные парады в лётной военной школе во время праздников ещё до войны.
– Духовой оркестр бы сейчас! – сказал он вдруг.
– И Эрнст Буш с Песней единого фронта, – подхватил Симон-шал. – Марш, левый! Раз-два!
О, да! Сейчас эта песня была бы кстати. Эрнст Буш приезжал перед войной в Энгельс, и мама видела и слышала его, и вспоминала его красную рубашку, энергичные жесты, зычный голос и его раскатистое, будоражащее «р-р». Призывную песню об едином фронте я слышал потом не раз, и на всю жизнь врезались мне в сердце гордые, непреклонные слова: «И потому что человек – Человек!».
– Песню, товарищи! Песню-ю! – взвился пронзительный голос Абикея.
Колонна затихла. Неровные шаги тонули в тугом ворсе весенней травы.
– Ойпырмай, как же это петь-то будем на ходу?! – удивился кто-то. – Где это видано?!
– С Абикеем ещё не то увидишь!
Впереди один из интернатовцев начал:
– Если завтра война, если завтра в поход…
– Тайт, негодник! – прицыкнули на него тут же. – Чтоб язык твой отсох! Глянь-ка, храбрец какой! На заду прореха, а он в поход собрался. Другую давай!
Никто не мог вспомнить маршевой песни, и тогда Темеш завёл недавно дошедшую до аула скорбную, трагическую «Жас қазақ». Кто-то неуверенно подтянул, но и эту песню оборвали с первых же строк.
– Эй, заткнись! Не рви душу! Сегодня радоваться надо – не скорбеть.
Над колонной взмыл озорной, весёлый голос мугалима Қаляу.
Дегенде Балкадиша, Балкадиша,
Куйеуің сексен бесте…
И все встрепенулись радостно, ликующе, в такт шага подхватили:
А-ха-ха-ха, Балкадиша-ай!
А-ха-ха-ха, Балкадиша-ай!
Кто бы мог подумать, что лукавая, шальная, на весёлых вечеринках исполняемая старинная мелодия прозвучит когда-нибудь маршевой песней в честь Победы?!
Тот день настал!
Шла колонна по аулу, и впервые видели здесь такое многолюдное шествие, и торжественно-взволнован был однорукий военрук Абикей. Он остановил своих земляков и учеников-воспитанников из окрестных аулов у околицы на полянке вблизи Ишима, там, где издревле шумел берёзовый колок.
– Люди! – сказал он вдруг. – Обнажите головы. Минутой молчания помянем родных и близких, жизни отдавших ради этого дня.
И прокатился вздох по толпе, живая боль пронзила души.
Теперь здесь уже не шумели берёзы, на месте леса торчали неровные пни – горькое напоминание о тех деревьях, срубленных и спиленных неумелыми вдовьими и детскими руками буранной зимою военного лихолетья.
Молчали долго. Потом подъехал баскарма и объявил:
– Всех прошу собраться у крутояра возле Есиля. Там продолжим той по нашему обычаю.
И стар, и млад, радостно гомоня, вразброд потянулись к берегу Ишима, где уже дымился казан на продолговатой земляной печке и пестрели на нетронутой траве домотканые паласы.
И настал тот день. Не миновала весть великая и наш аул, затерявшийся в берёзовых перелесках на берегу бурливого Ишима.
…Ночью я долго не мог уснуть. В окошко глядел месяц, похожий на лепёшку. Небо вызвездилось и казалось теперь огромным шатром из жеребячьей шкуры, проткнутой во многих местах, и сквозь эти щели, точно из какого-то другого загадочного мира, просачивался таинственный свет. Засыпая, я и не подозревал, не догадывался, что этот день будет самым памятным днём моего детства…
Завтра наступит новый день, откроются новые дали…
Герольд Бельгер
Все самое актуальное, важное и интересное - в Телеграм-канале «Немцы Казахстана». Будь в курсе событий! https://t.me/daz_asia