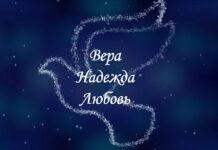Смотрю в тёмное окно. Дом напротив нагло глядит на меня незашторенными желтыми пятнами света. «Мы тут!» – утверждают окна. Да, да, знаю… Вы тут, а она там, в другом месте, совсем-совсем в другом… Там темно… Нет, там светло! Яркий, теплый свет!
Всё, хватит, отойду, наконец, от окна! Тихо в квартире… Дочь уехала в Берлин, на семинар, только Люська развлекает меня своим «мяу»да «мур-мур». Мы с ней коротаем дни до приезда нашей лапушки. Варить и печь можно по желанию, можно и не варить – просто бросить на сковородку колбасу, залить яйцом – и обед готов. Тихо… Пусто…
Сегодня, как обычно по субботам, съездила к маме. Хорошо у нее, спокойно. Нет никого холодным январским вечером. Липа голыми ветками на фоне синего неба чертит причудливый узор. Соседи ухожены – это приятно. Земля посыпана мелкими щепками, ровные круги замерших цветов утешают горячие глаза печалящихся… Наш участок мирной земли тоже всегда ухожен – нас ведь много, все помним и любим. А как же не любить? Весёлая, с ямочками на щеках, всегда молодая наша мамочка…
Вот стою у окна, и тепло мне от её улыбки, хоть годы прошли и столько воды утекло! И с чего ей, при её-то разнарядке, улыбаться было? С какой такой радости? Папка наш молодым покинул этот свет. Заболел неизлечимо. Не хотел быть обузой, потому и поторопился, ушёл сам в вечность. Мама с нами, ребятишками, одна осталась, без помощи, без поддержки, с мизерной пенсией по потере кормильца для нас, троих детей. Поднимала сама, как могла… На заводе работала, в саду-огороде после смены пахала, по выходным да ночами нам одежду вязала, шила, квартирку нашу вышивками украшала. Горевать да болеть некогда было!
Однажды, лет в одиннадцать, я её спросила: «Мама, что такое настоящая любовь?» Она сразу же ответила: «Большое горе. Неизбывное».
Мне показалось, что за этим скрывается какая-то тайна. Я ведь тогда в действительности считала, что любовь – это счастье. Счастье неизбывное… Я помнила ещё, как крепко любил меня папа. Раз любил меня, значит, и маму так же – ведь я мамина кровинка. Я стала приставать к матери с разными вопросами. Она обычно отмалчивалась, нервно поправляла тонкими пальцами локоны химической завивки. «Любовь – это очень больно», – говорила мама и, пряча глаза, принималась за домашние дела.
Я старательно помогала маме во всём: мыла посуду, пол, стирала, гладила, выполняла всякую работу на огороде, бегала с поручениями в магазины, радовала школьными оценками, стараясь не докучать своими проблемами. Но в то время я добивалась ответа: «Мама, ты любила папку? Почему у папы всегда были такие грустные глаза?»
Однажды мама села на сколоченную папой табуретку, сложила усталые руки на колени и начала свой рассказ.
– Его звали Эрих. Он был высоким, тощим, с веснушками, с густыми рыжими кудрями. Глаза у него – зелёные и большущие, как у нашей кошки Милки. Мы, когда увидели друг друга, в первые минуты выдохнуть не могли – только смотрели и смотрели…
Эрих был мне ровесником. Наши судьбы похожие: мы – русские немцы, отцов и дедов расстреляли в тридцать восьмом, мы с матерями, сёстрами и братьями пережили в казахстанских деревнях голод и холод военных лет, оба теряли погибших родственников, оба с большим трудом перебрались в заводской Челябинск, где в трудовой армии, что была создана для молчаливых, без вины виноватых рабов, вкалывали наши родные… И мы оба ожидали большую, верную и вечную любовь. Вот она и пришла!
Приехали из поселения в Казахстане мы с твоей, Анюта, бабушкой в барак, где устроился мой старший брат с женой. Назывался этот ЧМЗовский район – Бакал. Это теперь он в народе Черёмушками зовётся, потому что много широких улиц с пятиэтажными хрущёвками понастроили. Все новые районы в городах страны называются негласно Черёмушками. Остановка трамвайная недалеко, удобно на смены ездить – весь народ в основном на заводе работал. Барак длинный, отопление печное, туалеты на улице, комнатка маленькая, а в ней жили ещё трое человек. Жена брата – жадная и склочная, гнала нас из комнатки, не хотела даже впускать – двери задвижкой закрывала, хорошо хоть другие жильцы уговаривали её нас впускать. Мы спали на холодном полу, подстелив под себя старые фуфайки. Утром, собираясь на работу, сноха, переступая через наши тела, как бы нечаянно наступала нам на руки и на ноги, при этом громко ругалась. Брат молчал. Свой хлеб брат с женой ели отдельно, крошки тщательно собирали в ладонь и сглатывали. Мама болела, а я никак не могла устроиться на металлургический комбинат. Ещё бы! Документов у нас с мамой ведь никаких не было. Хорошо, что живыми приехали, время-то было сталинское, тяжёлое – шёл пятидесятый год. Шесть лет оставалось до освобождения русских немцев в Союзе.
Эрих жил недалеко, в таком же многокомнатном, наскоро сколоченном бараке, как и мы. В его семье он был старшим, ему исполнилось двадцать один. На свою зарплату слесаря-станочника он кормил полуживую мать и семерых младших детей. Стояла весна. Дети рвали траву и варили из нее пойло, которое называли витаминным супом. Мы с Эрихом гуляли по освещенным улицам нового района. Крепко держались за руки – нас качало от голода! Но нам было не привыкать! С тех пор я люблю рыжих. Люблю, когда на носу у кого веснушки… И чтобы, как золотом, по волосам… Мы разговаривали мало: понимали друг друга с первого взгляда, с лёгкого жеста. Сердце было таким полным, что боялись расплескать его…
Как раз в это же время за мной начал ухаживать твой отец.
Мама нахмурилась и опустила голову. Пробор в волосах ровный, аккуратный…
Она поднялась, сняла фартук. Налила себе граненый стакан воды из крана и быстро выпила. Простой изношенный халатик ладно прилегал к её стройной фигуре. Оценить мамину красоту я ещё не могла, но, помню, впервые дохнуло на меня не родненьким, а чужим, тайным и манящим. Я напряженно ждала.
– Ефрем был постарше, крепкий, волосы тёмно-русые… Ты помнишь его, Анюта, уже больным… А тогда он был хорош – на зависть моим знакомым девчатам. Завидя его издалека, я убегала в семью Эриха. Там, в душной сырой комнате, его младшие сестрички окружали меня и просили есть, а я гладила их по светлым головкам и придумывала смешные истории… Эрих приходил с работы, и мы шли гулять. Вслед нам неслось: «Тили-тили тесто, жених и невеста!»
Ефрем взбегал по крылечку в комнату, где мы жили, по-свойски. В длинном коридоре громко здоровался со всеми, кто находился в бараке, садился рядом с моей мамой на пол и часами терпеливо слушал её рассказы. Это были свежие воспоминания старой жизни: о Чёрном море, которое вовсе синее, об огромном доме, обвитом виноградной лозой, о хозяине – сероглазом муже. Твоя бабушка верила, что все равно когда-нибудь, он, Бог даст, вернётся, разыщет семью на широких просторах родины, по счастливому случаю совершенно живой и невредимый, скуластый, рукастый… И непременно с хлебом!
Ефрем приносил с собой две чёрные горбушки. Одну отдавал бабушке. Она сразу съедала его. Другой оставлял мне. Бабушка тщательно заворачивала его в обрывок газеты «Правда» и прятала в карман кофты.
Твой отец тоже имел большую семью, но братья и сестры были старше, чем у Эриха, они все работали на металлургическом производстве и сами зарабатывали себе на хлеб. Ефрем получал деньги на хлеб только для себя, отдавая семье немного. У него был хлеб для нас с мамой.
Отстояв смену на заводском конвейере, раздраженная сноха приходила домой и видела, как бабушка прячет хлеб для меня. Она грубо сообщала, что терпит «всю эту свору» последний день, чтобы ухажёр немедленно забирал свою избранницу и её незваную мамашу, и чтобы сейчас же выметался «отсюдава» вон. Ефрем уверял, что в ближайшие дни непременно выполнит все её требования, умолял потерпеть ещё немного. Он уговаривал твою бабушку посодействовать… Помочь… Повлиять… Уверял, что любит меня и будет оберегать, кормить и поить всю жизнь до самой смерти… Начал строить засыпную землянку недалеко от металлургического завода, где на пустыре возникал самострой – немецкий поселок. Его братья тоже возводили там землянки – деревянные домики, наполовину врытые в землю, присыпанные чернозёмом для утепления. Зимы-то на Урале, ой, холодные! Сама знаешь…
Придя с прогулки, я терпела град упрёков и слёзы мамы. Сморкаясь в разорванные на носовые платки старые тряпки, мама набрасывалась на меня:
– Дочка! Когда же ты, наконец, выйдешь замуж за Ефрема? Тебе уже двадцать лет, кто тебя потом возьмет перестарком? За Эриха ты в ближайшие годы выйти не сможешь, там дети малые! Мы с тобой просто умрём с голоду, если, не дай Бог, ты дашь корзину Ефрему. Ещё пара дней, и сноха выкинет нас за порог. Ты же видишь, что твой брат во всем потакает жене. А я ничего не могу с этим поделать! Ах, если бы мой Эммануил был жив, разве бы нам пришлось так бедовать… И в кого только сын мой уродился! Первенец мой! Не жалеет ни мать, ни сестру! Видно, и ты желаешь моей смерти! Такая же бессердечная! Ты что, не понимаешь – без краюх Ефремовых нас бы уже на кладбище унесли!
А какой он внимательный, какой ласковый, умный! Пока ты хвостом по асфальту с другим метёшь, он ждёт и терпит! Вот она – настоящая любовь! Ты не видишь, а люди-то всё видят… За ним будешь как за каменной стеной!
Эти причитания продолжались до поздней ночи. Сноха сносила их с видимым удовольствием. Брат сидел на крыльце, сосредоточенно подсчитывая убытки, сводил дебет-кредет.
Нет, я не хотела смерти матери! Со своей бы согласилась… И однажды, зелёным, светлым, майским днём, я сказала Ефрему чёрное, как те горбушки, слово «да».
Чем это обернулось для меня? Разбитой жизнью… Чем для Эриха? Этого я уже никогда не узнаю. Много позже люди мне передали, что через шесть лет он женился, построил дом, обзавелся детьми. Сказали, семья дружная…
Мама вновь опустила голову. Теперь я знала – разговор окончен.
Милка потерлась о ноги своей главной хозяйки. Для кошек семья – стайка кошек. Предпочтение отдается самой большой кошке. Причем это вовсе не обязательно глава семьи, и величина тела тоже роли не играет. Но у нас в семье разночтений на этот счёт не было.
И вообще разночтений не было…
Помню свет… Ноябрьский, фонарный, мерцающий… В окно…Ветер… Комната казалась почти пустой – углы густели сумерками. За окном тарахтели моторами автобусы – под окнами гадил воздух автобусный парк. Ряды гаражей означали границу города. Я подавленно молчала. А что я могла понимать в этом возрасте? А вот понимала же… Я тогда за несколько часов размышлений резко повзрослела. И мне очень хотелось иметь НАСТОЯЩУЮ любовь.
На следующий день я едва могла дождаться вечера. Как только мама вступила на порог, я бросилась ей навстречу с новыми вопросами.
– Мамочка! Папа так любил тебя! У него была настоящая любовь?
– Пусти, зайду! Дай раздеться! Есть хочу! И что это за ребёнок! Все дети, как дети, не пристают, не морочат голову, сами разбираются – что к чему! А ты, как банный лист – сдалась тебе эта настоящая любовь! Зачем она нужна? Только страдать! Вот вырастешь – узнаешь! Посмотрим тогда, как ты об неё разобьёшься!
Я уткнулась в учебники. Математика не давалась. Я сидела за столом, водила ручкой по клочку бумаги, припоминая все свои обиды на мать. Лучше нашего отца не было на свете! Он работал плотником высшего разряда. Дома мебель сделана его руками: шкафы, столы, стулья, лавки, сундуки, тумбочки, этажерки, гардины… Всё такое красивое! Он соседям бесплатно мебель делал. Мы жили хорошо с ним: папа всегда был занят – помимо основной работы, фотографировал детей по школам и детским садам нашего большого района. По ночам папа проявлял плёнки в ванной комнате, пропахшей растворителем и закрепителем, освещенной слабой красной лампочкой. На кухне на веревках, сжатые деревянными прицепками, сушились многочисленные фотографии и чужих людей, и нашей семьи.
Папа с друзьями и братьями ездил на охоту и рыбалку. В кухне в углу лежали тушки диких уток, тетеревов, зайцев, изредка лис. Мне было страшно жаль зверюшек, я не хотела их есть… Зато всякую рыбу ела с большим удовольствием. Караси пахли тиной, а щуки жесткие! Ерши скользкие и колючие, карпы большие, добрые.
Папа купил мотоцикл марки «Урал» с коляской, он возил нас и соседских детей кататься с ветерком. Он очень любил нас, своих девчонок. Иногда он рассказывал нам сказки, играл с нами – мама же никогда! Как весело было с ним! Вечерами папа пел большевистские песни и народные, иногда разучивал арии из опер, что исполняли по радио. Теплый, «бархатный» папин баритон ещё и сейчас звучит в моих ушах. А как отлично мог свистеть! Кроме всего прочего, папа играл на всех инструментах, которые в то время мы знали. Он был музыкантом-самоучкой. Нот не знал, но на всех гулянках развлекал народ баяном и песнями. Баян стоял обычно в углу комнаты. Нам нельзя было его касаться, чтобы тоны, переходя звуки-нервы, не расстраивались. На стене висели гитара, мандолина и балалайка, на них папа играл «для себя». Папа был очень сильным. Однажды вечером, когда мы уже жили в заводской квартире, мама сказала: «Не катай всю троицу на спине. Это вредно для твоего здоровья!» А мы крепко вцепились в папку и не хотели слазить. Тогда он поднял маму на руки и носил нас всех по квартире туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда… Да, а мама его не любила… Значит, для любви не важно быть хорошим, добрым, умелым, красивым, трудолюбивым…Я заплакала.
Я вспоминала, каким тяжелым взглядом смотрел отец на поздно возвращавшуюся с работы мать. Тогда он сильно болел, и маме приходилось самой добывать деньги для семьи. Больница находилась далеко, кормили там плохо, и когда отец вновь вынужден ложиться на лечение, маме приходилось возить еду в кастрюльках, плотно завернутую в полотенца, чтоб не остыла. Мы, дети, подолгу оставались дома без присмотра, а ведь младшей сестрёнке сравнялось четыре года. Отец глубоко страдал от собственной беспомощности. И у него родилось страшное решение. Он долго обдумывал его… Мы остались безотцовщиной, а мама вдовой в тридцать четыре. Я не осуждала. Я понимала…
И сумерки снова опустились на нас с мамой. Она сидела на кухне, положив изможденные руки на стол, уставясь в одну точку невидящими глазами. Сестры бегали во дворе с ребятишками. Их озорные крики долетали до пятого этажа, и открытая форточка приветливо впускала знакомые голоса. Обе похожие на маму, они крепко держались вместе.
Со дна глухой сумеречности квартиры вдруг дохнуло на меня зловонье отсутствия любви. Где нет любви – там тупик! Я села на сундук и, качаясь на нём взад-вперед, разглядывала щели деревянного пола. Минуты текли в часы… Тоска…
Мать заглянула в комнату:
– Почему ничего не делаешь?
– Я думала, что тебе действительно вчера разбитую чашку жалко было… А ты меня, значит, вот за что ремнём… И раньше…
Она пожала плечами и ушла варить суп.
А теперь вот лежит там… Перед смертью мама всё звала своего рыжего Эриха. Да где ж мы его ей возьмём? Наверное, тоже с волной эмиграции в начале девяностых в Германию попал. Может, живет где-то рядом. Дело прошлое…
Все другое вокруг. Давно нет той квартиры, того города, той ментальности, той страны… А люди на земле дальше живут, радуются, влюбляются, переживают или не переживают настоящую любовь. Она редкая – настоящая. Как птичка синяя, редкая. А кто её повстречает, кого она выберет, тот не обожжённым от неё не уйдет. Если вообще уйдёт… А я специалист по этому счастью – вот горе-то! Ведь и мне повстречалась… Ну та, что одна на всю жизнь и на всю душу, что сильнее разлуки и самой смерти. Недолго я звонко с птичкой пела. Отдала любви сердце, время, здоровье – потеряла навеки мужа и сына.
Дочка скоро вернется из Берлина, семинар опять там какой-то. Обрадуемся, обнимемся… Любим друг друга заботливой, нежной, родственной любовью. Только о любви-страсти не спрашивай меня, студенточка моя любознательная! Глазастая, трепетная… Ничего я тебе не скажу. Даст Бог, пронесёт тебя эта напасть бешеная, ломающая все преграды. И на американскую экранизацию романа Льва Толстого не пойдем. Зачем тебе знать про пути-дороги синей птицы? Мой путь и путь моей знаменитой тёзки – не должен волновать тебя! Каренинские страсти не для тебя! Ромэо и Джульету не в пример! И бедная Лиза на что тебе? На кой тебе Вертер с его страданиями? Может, полюбишь человека положительного, морально устойчивого, порядочного, состоятельного при спокойной благожелательной обстановке в стране, да и проживешь свою жизнь в добре и достатке, в относительном покое. С любовью нормальной, оценивающей и уважающей себя. Не теряя достоинства своего, доченька, пройдешь жизнь, как поле. Может, обойдет тебя горе-горькое, неизбывное – любовь настоящая.
Анна Дай-Шаф
Все самое актуальное, важное и интересное - в Телеграм-канале «Немцы Казахстана». Будь в курсе событий! https://t.me/daz_asia