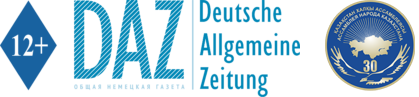Потянет ли бизнес развитие сельских территорий? В чем разница между казахстанской и немецкой деревней? На эти и другие вопросы отвечает Евгений Иосифович Аман – в 1999-2009 гг. депутат Сената Парламента Республики Казахстан, в 2009-2013 гг. – ответственный секретарь Министерства сельского хозяйства РК, в 2013-2015 гг. – первый заместитель акима Костанайской области.
– Евгений Иосифович, Вы хорошо знаете, как обстоят дела и в казахстанской глубинке, и в немецких деревнях. Уровень благоустройства у нас и в ФРГ совершенно разный. Казахстан вкладывает средства в строительство дорог, водопроводов, в газификацию больших и не очень больших населенных пунктов, но порой, как говорится, деньги на ветер.
– Мы можем сожалеть, что часть деревень, особенно на севере Казахстана, уходит в небытие из-за отсутствия каких–либо перспектив. Урбанизацию как факт отрицать бессмысленно, как и чрезмерное количество ослабленных населённых пунктов на огромном удалении друг от друга. Они строились в совершенно иных общественно-экономических условиях, все было другое, прежде всего средства коммуникации и численность населения.
Сегодня для 50 и даже 200-300 человек невозможно создать комфортные условия. Не только сельским жителям, но и государству нужно, чтобы были асфальтовые дороги, водопровод, природный газ, современные средства связи. Никакая страна не потянет эту задачу, если плотность населения низкая, километры зашкаливают, а стоимость работ с каждым годом растет. Цели стоят правильные, но далеко не всегда они оправдывают средства. Задача стопроцентно обеспечить сельское население питьевой водой не была решена в советское время – использовали речную, озерную воду, а преимущественно колодезную. В годы независимости водопроводы вышли на приоритетный уровень, и это правильно с позиций социального государства, но когда доходит до разводящих сетей, до тарифа – довольных мало. Себестоимость кубометра воды – несколько тысяч тенге, значительно выше, чем в городе. Тариф зависит от количества потребителей, на селе этот показатель измеряется сотнями, а не тысячами, нужными для окупаемости. Кто возьмет на себя издержки? Можно только представить, какие суммы бюджет на это дело тратит.
Для примера: в Костанайской области при себестоимости до 4 000 тг население платит 40 тг за куб, основные затраты приходятся на субсидии. Вопрос сложный, он требует другого решения – системного, прагматичного и более эффективного, чем сегодня мы имеем.
– На каком фундаменте сложились преимущества немецкой деревни?
– В немецкой деревне порядка, традиционной культуры больше, чем в городах. Причин этому немало, но суть в том, что городское население к общественному пространству относится не так бережно, как в традиционной немецкой деревне. Почему такое сравнение привожу? Я достаточно хорошо знаю, каким образом организовано в Германии самоуправление на селе.
Каждый гражданин, который там проживает, бережёт окружающую среду. Требования довольно жёсткие к дворам, к содержанию животных, к застройкам – на любую деятельность требуется разрешение. Вижу критические и даже язвительные публикации на тему запретов для дачников в Германии. Но именно ограничения позволяют обеспечивать порядок. Каждое дачное объединение имеет устав – свод требований, за соблюдением которых следят общество и государство. В Казахстане дачные общества стали стихией. Если в советское время получить дачный участок было большой удачей, поэтому некоторый порядок естественным образом формировался, то сейчас на дачах и скот держат, дома огромные строят, пользуются дешевой электроэнергией. Нет контроля, отсутствуют нормативная база и понимание, как должно развиваться то или иное место проживания. Много лет масса неурегулированных вопросов влияет, в том числе на правопорядок.
– Как преодолеть инерцию?
– Только за счет правильного и глубокого законодательства, нормативной базы, которые бы регулировали жизнь на местах. В городах поиск совершенствования местного самоуправления выливается в скандалы, главным образом, в сфере ЖКХ. Нет понимания, в каком направлении надо двигаться. Это отголоски нашего советского прошлого, когда всё было в ведении государства, и человек не заботился, кто двор будет убирать, крышу ремонтировать и тому подобное. Назвать иждивенчеством те отношения не рискну. Люди работали и не обращали внимания на обслуживание, хотя идеальным оно никогда не было. В рядовых многоэтажках с тех пор мало что изменилось. Инерция очень сложно преодолевается, и власть, на мой взгляд, не очень много делает для того, чтобы люди понимали, что дом – это их собственность со всеми вытекающими обязанностями. Есть серьезный нюанс: закон об аренде жилья был принят 20 лет назад, но этот вопрос тоже не урегулирован: процветает «серая» сдача жилплощади в аренду.
Отсюда не редкость пренебрежение к соседям, ночные «концерты» и криминал. У жильцов в таких домах не хватает средств, чтобы вкладываться в благоустройство и ремонты. А многочисленные «квартиранты», которые снимают крышу по часам, отбивают чувство собственности и желание что-то делать. Двигаться и дальше в этом направлении нельзя. Зачастую можно слышать насмешки в адрес жителей европейских стран, которые друг за другом наблюдают, «доносят», если кто-то нарушает порядок. Вот этого и не хватает нашим людям. Терпимость к «беспредельщикам» оставляет их безнаказанными. В сельской же местности свои «пятна на солнце». Я хорошо помню время, когда в Парламенте ломали копья вокруг закона о личных подсобных хозяйствах. Я скептически относился к его принятию и как депутат Сената, и как ответственный секретарь Минсельхоза. Закон был принят. Он как не работал, так и не работает.
Стремление поддержать желающих вести личное подсобное хозяйство входит в противоречие с ветеринарными и экологическими требованиями. Одна из причин – ступор местного самоуправления в контексте создания нормативной базы для совместного проживания на той или иной территории. В этом блоке нашлось бы место и личным подворьям. Если у местного самоуправления будут полномочия, внутри своего сообщества можно определиться, как выгодно вести хозяйство, не вступая в схватку с ветеринарией и экологией. Не исключаю, что сельчане предпочтут жить, как привыкли. Да и МИО так проще. Но тогда не надо сокрушаться, что одни бегут из села, а другие бедствуют. Есть ли выход из этого тупика? Есть. Нужны разумные нормативы о совместном проживании на севере областей, в центре, на юге, в условиях плодородного земледелия и в условиях бесплодной части Казахстана. Это очень специфично для каждого региона, а мы пытаемся одним законом предусмотреть всё для всех.
– Сельчане обижаются, что строят только города. Кто должен строить в деревне?
– Инициативы масс, если не поощряются, не развиваются. Пример: строительство жилья в сельской местности, точнее его тотальный дефицит. Камышовые стены двухквартирных домов – советское прошлое – за 30 лет «самоликвидировались» или находятся в фазе тления. В деревнях еще можно найти те, что строились в 60-е годы, когда частник сам себе делал более – менее основательно. Даже саманные дома сохранились, которые люди строили за свой счет и на свой вкус. А которые «под копирку», камышитовые – к ним жильцы относились не так, как к своим родным. Если мы хотим, чтобы сельское строительство развивалось, чтобы посёлки существовали, нужно инициативу населения стимулировать, нужно помогать. Удешевлять строительство для сельского бизнеса и населения, инфраструктуру подтягивать – это целый комплекс мер, которые бы разбудили активность, подтолкнули людей к делу. Тогда будут и рабочие места, и комфорт, и наследники появятся: в этой деревне, в этом доме можно жить поколениями в тепле и уюте. К слову, в немецких деревенских домах живут веками. Войны их разрушали, а когда наступал мир, люди все приводили в порядок.
– Как перейти от слов к делу?
– С этим нужно поторопиться. Тот сценарий, который на сегодняшний день не сложился, нельзя оставить в разработке, как он есть. Процесс должен быть управляемым. Спорадически возникают идеи создания опорных сёл. Их обозначают, рисуют дорожные карты, но какого-то серьёзного подхода я и сам в ходе своей практики не наблюдал. Хорошо, что в стране есть деньги на дорогую воду, но не факт, что так будет всегда. Значит, нужно чётко продумывать, как будет выглядеть весь казахстанский сельский ландшафт. Беларусь, к примеру, идёт по пути агрогородков. Они это делают давно и прекрасно. Значит, и мы должны понять, как должно быть в Казахстане. Скорее всего, это может быть концентрацией какой-то части населения в достаточно крупных сельских формированиях с благами цивилизации: школой, торговлей, медициной, культурой, ЖКХ – в увязке с производством, получением продукции, приемлемыми заработками. Конечно, наши гектары вокруг одного агрогородка не обработаешь. Мировой опыт показывает, что работать удалённо весной – осенью – реальный выход для полеводства в Казахстане. Не будет необходимости зимовать в заснеженных отдалённых населённых пунктах и требовать от власти, чтобы туда чистили дорогу, или нагружать подобными услугами бизнес. Зачастую журналисты показывают скорбную картину убитого, уничтоженного поселения, взывают к совести властей. На мой взгляд, всем надо рациональнее относиться к настоящему. Можно грустить о прошлом, это по-человечески, но вчерашний день невозможно поставить впереди дня сегодняшнего.
– Государственные или частные деньги надо вкладывать в село?
– Настораживают настроения правительства по уменьшению объёма субсидирования сельского хозяйства. Уменьшать – не значит экономить. К тому же, параллельно предлагается строить и обустраивать села с участием бизнеса. Просматривается попытка настроить общественное сознание на предмет обязанности бизнеса заниматься развитием сельских территорий. Рискованная тенденция. Ни в коем случае нельзя перекладывать эти задачи на частника – он сломается. Важно четко определить, кто чем должен заниматься.
В свое время у меня была дискуссия с депутатом Европарламента, она имела отношение к сельской теме. Мы ездили с ней в село Родина Акмолинской области. Это был период, когда Казахстан вступал в ВТО. От нас требовалось уменьшить субсидирование и поддержку предприятий, которые работают на экспорт.
У меня тоже был вопрос к ней: в Германии, например, колоссальная производительность и огромный объём фермерской продукции, но субсидии выше, чем где бы то ни было на постсоветском пространстве. Она ответила, что субсидируется не столько производство, сколько создание ландшафтной инфраструктуры. Чтобы в те самые хутора или фермерские хозяйства пришли вода, канализация, электроэнергия, чтобы даже внешний вид фермы радовал глаз – именно так все должно быть организовано. Это часть общей культуры, без которой ферма легко превращается в руины. Вы это видите на своих скелетах ферм, – так она разделила их и наши подходы в сельском хозяйстве.
– Как понимать ландшафтную сельскую инфраструктуру?
– Это и ферма, и посёлок – средства сюда должно вкладывать государство в достаточно больших объемах, поощрять, удешевлять. Страна и народ должны любоваться и гордиться не только столицей и областными центрами, но и сельскими ландшафтами и поселками. Это огромный пласт новой культуры, опыт перенять несложно. Люди ездят к Ивану Адамовичу Сауэру и в его агрофирму «Родина» с желанием увидеть, какое оно, современное богатое село. К такому уровню надо стремиться, совмещая усилия. Ответственность бизнеса получит импульс – он добровольно захочет участвовать в создании такой инфраструктуры, получить свою долю собственности; придет время, он передаст ее по наследству. Люди закрепляются за собственностью: если дело достойно выглядит, если оно конкурентоспособно, его не бросят. Это тоже очень важно.
– Какими силами надо работать, чтобы получить результат?
– Ни одну задачу нельзя решить, если в ней не уделяется достойное место человеку. Я говорю о формировании общественной активности, гражданского общества. Пока это слабо проявляется. Может быть, репрессиями отбили охоту заявлять о своем мнении, нельзя исключать, что и сейчас рискованно. Но без своего мнения трудно обойтись. Гражданское общество и местное самоуправление – термины взаимозависимые. Одно не может быть без другого – это касается и города, и села.
Самоуправление – это важнейший комплекс прав, полномочий и обязанностей населения на обособленной территории, и это не должно сводиться только к полномочиям акимов. У нас проходят выборы акимов сел, районов, городов. Чем ниже спускаемся по вертикали власти, тем больше вопросов. Откуда ни возьмись, появляется кандидат, который сельской жизни не нюхал, но ему нужна строчка в портфолио для карьеры. Между тем, Глава государства очень большое значение придает выборам акимов, «подставные кандидаты» в этом контексте не предусмотрены.
Беседу вела Людмила Фефелова.
Все самое актуальное, важное и интересное - в Телеграм-канале «Немцы Казахстана». Будь в курсе событий! https://t.me/daz_asia